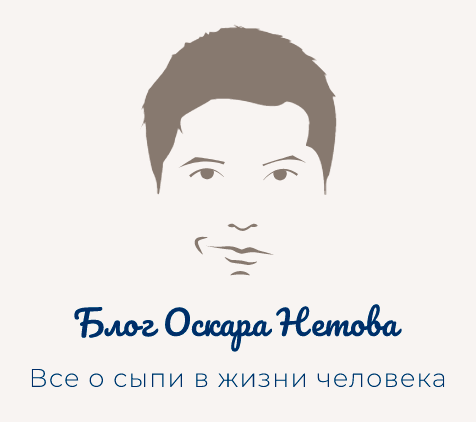Как бронзовой золой жаровень жуками сыплет сонный сад анализ
Анатолий Александрович Якобсон был публицистом, поэтом, переводчиком. Он ушёл из жизни 43 лет, осенью 1978 года в Иерусалиме. Покончил с собой…
I. РАННИЙ ПАСТЕРНАК (1)
В биографии Пастернака есть некая грань, некий хронологический рубеж — это начало 40-х годов. Поэтика Пастернака, его манера, — а первые известные стихи Пастернака датированы 1912 годом — сначала довольно сильно отличаются от художественного почерка, который выработался у поэта во второй половине 40-х годов и господствовал уже до конца. Конечно, огромный для Пастернака и для истории русской поэзии период с 1912 года по 1940 — неоднороден. Но все же стихи этого периода представляют собой как бы единое качество по сравнению с более поздней поэзией Пастернака. Поэтому для удобства говорим: ранний Пастернак, до 40-х годов, и поздний Пастернак, хотя это условность, потому что в 40-м году поэту было 50 лет. Маленькая оговорка общего характера: при всех различиях между ранним и поздним Пастернаком, общность гораздо глубже и существеннее этих различий. Поэтому цельность поэтического мира Пастернака вообще ни у кого из серьезных критиков и литературоведов не вызывает сомнений. Думаю, что это будет следовать и из моих двух лекций. Сегодня я прочту лекцию о раннем Пастернаке, а в следующий раз — о позднем. Обе лекции посвящаются Лидии Корнеевне Чуковской.
Вот одно из первых стихотворений Пастернака, как раз стихотворение 1912 года.
Как бронзовой золой жаровень,
Жуками сыплет сонный сад.
Со мной, с моей свечою вровень
Миры расцветшие висят.
И, как в неслыханную веру,
Я в эту ночь перехожу,
Где тополь обветшало-серый
Завесил лунную межу,
Где пруд, как явленная тайна,
Где шепчет яблони прибой,
Где сад висит постройкой свайной
И держит небо пред собой.
В этом маленьком стихотворении — важные черты, приметы и поэтики, и поэзии, и мироощущения Пастернака. Это кусок живой природы, в котором отражено, как бы разом опрокинуто, все мироздание. Сказано: «Со мной, с моей свечою вровень миры расцветшие висят». Это не значит, что человек поднят на уровень вселенной. Такие слова по отношению к тексту Пастернака были бы неуместны. Здесь вообще нет приподнятости, пафоса, нет гиперболизации. Кстати, «миры расцветшие висят» — это так увидел Пастернак зрелые яблоки в саду, как стало известно из недавно опубликованных в России черновиков Пастернака, и о чем знали пастернаковеды. И если взять строки: «И как в неслыханную веру, я в эту ночь перехожу», то это не патетика, потому что эти строки произносятся тихо, а не громко. Нам сообщается какая-то тайна, нечто сокровенное. Свеча — это просто свеча, а не символ духовного горения. Почему «Сад висит постройкой свайной и держит небо пред собой»? А вот почему: вышел человек на террасу, допустим, и свет распространяется так, что не видно земли. И освещен второй ярус сада. Все образы конкретны, предметны, зримы. Это не символы и не аллегории. Человек и мироздание даны в одном измерении. Они и существуют для Пастернака в одном измерении. Ибо и человек, и природа одинаково одушевлены для него и одинаково одухотворены. Посмотрим, из каких слов состоит это стихотворение. Тут как бы два словесных ряда. Такие, скажем, «простые» слова, слова широкого обихода, как зола, жаровни, жуки, свеча, тополь, ночь, межа, пруд, свайная постройка. И слова другого ряда, условно назовем их возвышенные, высокие слова: явленная тайна, неслыханная вера. Возможно, это не самое удачное название, но понятно, в чем суть. Так вот, этот второй ряд, ряд высоких слов, — это никакой не символизм, это не отвлеченные образы вечности и бесконечности. Я думаю, что и вечность, и бесконечность присутствуют в этом стихотворении, но все предметно, чувственно, конкретно. Так возвышенное, высокое у Пастернака гармонически смыкается в нечто единое с земным, обычным. Это есть коренная черта поэтики и поэзии Бориса Пастернака. В данном случае, говоря «поэтика», я имею в виду не науку о поэзии, а манеру, стиль автора. Далее: я уже высказал ту мысль, что природа у Пастернака — одухотворена, как одухотворен человек. Она живет сложной духовной жизнью. Дыхание природы — тонкое дыханье. Послушайте, пожалуйста, следующее стихотворение:
Плачущий сад
Ужасный! — Капнет и вслушается,
Все он ли один на свете
Мнет ветку в окне, как кружевце,
Или есть свидетель.
Но давится внятно от тягости
Отеков — земля ноздревая,
И слышно: далеко, как в августе,
Полуночь в полях назревает.
Ни звука. И нет соглядатаев.
В пустынности удостоверясь,
Берется за старое — скатывается
По кровле, за желоб и через.
К губам поднесу и прислушаюсь,
Все я ли один на свете, —
Готовый навзрыд при случае, —
Или есть свидетель.
Но тишь. И листок не шелохнется.
Ни признаки зги, кроме жутких
Глотков и плескания в шлепанцах,
И вздохов, и слез в промежутке.
Я спрашиваю: кто плачет — сад или сам автор? Ответить на этот вопрос нельзя. И автор готов навзрыд при случае, и сад плачет. Грань провести немыслимо. Происходит взаимное перевоплощение. Цитирую Синявского: «Обычный параллелизм — «я и сад» — оборачивается равенством: «я — сад». Если Маяковский и Цветаева хотят говорить за весь мир от своего лица, то Пастернак предпочитает, чтобы мир говорил за него и вместо него: «не я про весну, а весна про меня», «не я — про сад, а сад про меня». Итак, природа у Пастернака говорит и действует от имени автора. Но так натурально и непосредственно, что кажется — от своего собственного имени. Говорю: «действует» и подчеркиваю: природа действует. Как она действует? Ну, например, так:
Душистою веткою машучи,
Впивая впотьмах это благо,
Бежала на чашечку с чашечки
Грозой одуренная влага.
На чашечку с чашечки скатываясь,
Скользнула по двум, — и в обеих
Огромною каплей агатовою
Повисла, сверкает, робеет.
Пусть ветер, по таволге веющий,
Ту капельку мучит и плющит.
Цела, не дробится, — их две еще,
Целующихся и пьющих.
Смеются и вырваться силятся
И выпрямиться, как прежде,
Да капле из рылец не вылиться,
И не разлучатся, хоть режьте.
Кто здесь действует? Две капельки. О чем стихотворение, о двух капельках? Да, о двух капельках. И о красоте мира, о его совершенстве, о любви. Цикл называется «Развлечения любимой». Это стихотворение о цельности и единстве бытия. Жизнь нерасторжима, как две слившиеся капельки. «И не разлучатся, хоть режьте». Увидеть, почувствовать в малой капельке безграничный океан, именуемый жизнью, в этом склад дарования Пастернака («Существованья ткань сквозная» — это очень Пастернаковские слова). У Пастернака особое, жадное, неистовое пристрастие к деталям. Их тончайшее, точнейшее воспроизведение это специальность Пастернака. Это художник, которому «ничто не мелко». Ибо для него только в подробностях, в частностях оживает панорама бытия. То есть реализуется конечная цель его поэзии. Эту свою страсть Пастернак возводит в некое эстетическое кредо. В некий культ:
Давай ронять слова,
Как сад – янтарь и цедру,
Рассеянно и щедро,
Едва, едва, едва.
Не надо толковать,
Зачем так церемонно
Мареной и лимоном
Обрызнута листва.
Кто иглы заслезил
И хлынул через жерди
На ноты, к этажерке
Сквозь шлюзы жалюзи.
Кто коврик за дверьми
Рябиной иссурьмил
Рядном сквозных, красивых,
Трепещущих курсивов.
Ты спросишь, кто велит,
Чтобы август был велик,
Кому ничто не мелко,
Кто погружен в отделку
Кленового листа,
И с дней экклезиаста
Не покидал поста
За теской алебастра?
Ты спросишь, кто велит,
Чтоб губы астр и далий
Сентябрьские страдали?
Чтоб мелкий лист ракит
С седых кариатид
Слетал на сырость плит
Осенних госпиталей?
Ты спросишь, кто велит? —
Всесильный бог деталей,
Всесильный бог любви,
Ягайлов и Ядвиг.
Не знаю, решена ль
Загадка зги загробной,
Но жизнь, как тишина
Осенняя, — подробна.
Всесильный бог деталей — покровитель Пастернака. И он — одновременно бог любви. Потому что он от века занят филигранной, любовной отделкой природы. И потому он же — и бог красоты. А союз литовского князя Ягайлы с польской королевой Ядвигой — здесь олицетворение любви, красоты и вечной молодости мира. Подробного и детального мира. Стихотворение пронизано чувством восхищенного удивления, почти суеверного изумления перед совершенством природы. Перед явленной тайной. Как будто этот мир создан только что или впервые увиден. Но мы понимаем, что подобная острота восприятия, такая интенсивность созерцания дается не только талантом, но и огромным опытом. Мы понимаем, что Пастернак смотрел на природу больше нас, чаще, терпеливее и напряженнее. Но в том-то и дело, что сколько ни смотрел, все не переставал удивляться, следовательно, при всей искушенности, изощренности своей, не утрачивал ту свежесть взгляда, ту непосредственность ощущений, которая дана только художнику. Я бы сказал, что еще и ребенку, но это уже трюизм.
Иногда Пастернак прямо и непосредственно формулирует это свое ощущение первозданности бытия. Например: «Вся степь, как до грехопаденья». И в этой первозданности для него заключена какая-то неприкосновенность: «И через дорогу за тын перейти нельзя, не топча мирозданья». Но и без подобных «образных» формул (это не только формулы, но и очень емкие, могучие образы) любой пейзаж Пастернака проникнут именно таким ощущением природы. И выходит по Пастернаку, что поэзия растворена во всем, что она «валяется в траве под ногами». Роль поэта — не нарушить, не спугнуть, превратиться в уши, в ноздри, в глаза, и вбирать, впитывать в себя то, что источается, расточается природой. Поэт — всасывающая губка. Он лишь записывает то, что продиктовала жизнь. Такова эстетика Пастернака. Вот стихотворение про это, об этом самом.
Весна
Что почек, что клейких заплывших огарков
Налеплено к веткам! Затеплен Апрель.
Возмужалостью тянет из парка,
И реплики леса окрепли.
Лес стянут по горло петлею пернатых
Гортаней, как буйвол арканом,
И стонет в сетях, как стенает в сонатах
Стальной гладиатор органа.
Поэзия! Греческой губкой в присосках
Будь ты, и меж зелени клейкой
Тебя б положил я на мокрую доску
Зеленой садовой скамейки.
Расти себе пышные брыжжи и фижмы,
Вбирай облака и овраги,
А ночью, поэзия, я тебя выжму
Во здравие жадной бумаги.
Последние строки звучат в особой тональности, если не хищно, то, во всяком случае, алчно. В них слышится алчба. И нет никакой робости, никакой трепетной неприкосновенности, которые нужны были раньше, чтобы не расплескать, сохранить драгоценную влагу. Пока уши, ноздри и глаза перекачивали ее в губку, в душу. А когда влага собрана, то, чтобы выжать ее, нужны сильные, жадные руки. И Пастернак восклицает: «Искусство — дерзость глазомера, влеченье, сила и захват». Цветаева сказала о поэзии Пастернака: «Поэзия вечной мужественности». И только оба эти акта вместе взятые — почти экстатическое христианское смирение («Природа, мир, тайник вселенной, я службу долгую твою, объятый дрожью сокровенной, в слезах от счастья отстою») и языческое, алчное проявление: «Искусство — дерзость глазомера…» Только оба эти акта вместе взятые дают поэту особые права по отношению к жизни и ставят его с ней на короткую ногу.
Заглавие книги Пастернака «Сестра моя — жизнь» — лучший эпиграф ко всей поэзии не только раннего, но и позднего Пастернака. В этом обращении одновременно и нежность, и благоговение, и дерзость. А в общем — крайняя интимность: «Казалось, альфой и омегой мы с жизнью на один покрой. Она жила, как альтер эго, и я назвал ее сестрой». Вот, как начинается это стихотворение. Прочту только первых две строфы:
Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе
Расшиблась весенним дождем обо всех,
Но люди в брелоках высоко брюзгливы
И вежливо жалят, как змеи в овсе.
У старших на это свои есть резоны.
Бесспорно, бесспорно, смешон твой резон,
Что в грозу лиловы глаза и газоны
И пахнет сырой резедой горизонт.
Пастернак сам сознает, что его ощущение жизни уникально. И он иронически соглашается с другими, которых он называет «старшими», то есть людьми солидными, то есть глухими и слепыми. Он соглашается с тем, что его, Пастернака, резон смешон по сравнению с резонами старших. Значит, сам поэт свой взгляд на мир как бы признает — не всерьез, конечно — смешным, то есть чудным, то есть неосновательным. И как бы стесняется своих прозрений, своих откровений. В таких словах, как резон, горизонт, газон, полно озона. Поэтому гениальный современник Пастернака Мандельштам сказал в статье «Заметки о поэзии» — не про это стихотворение, а вообще — «Стихи Пастернака почитать — горло прочистить, дыханье укрепить, обновить легкие: такие стихи должны быть целебны от туберкулеза». А между тем, до последних десятилетий, до 60-х годов, в литературной и окололитературной публике (а это немало значит — окололитературная публика — это самые квалифицированные, нет, не скажу самые, скажу: просто квалифицированные читатели) было распространено мнение о недоступности, непонятности раннего Пастернака. Почему так? Мандельштаму в ответ на его слова возразили бы так: для того, чтобы дышать поэзией Пастернака, надо ее сначала понять. В гортань и в легкие слова попадают не сразу, через мозг. Действительно, стихи надо сперва понять. И есть обстоятельства, затрудняющие их понимание. Первую и главную причину непонимания стихов Пастернака формулирует Цветаева: «Основная причина нашего первичного непонимания Пастернака — в нас… Между вещью и нами — наше (вернее, чужое) представление о ней, наша застилающая вещь привычка, наш, то есть чужой, то есть дурной опыт с вещью, все общие места литературы и опыта.
наша слепость, наш порочный глаз. Между Пастернаком и предметом — ничего, оттого его дождь — слишком близок, больше бьет нас, чем тот из тучи, к которому мы привыкли. Мы дождя со страницы не ждали, мы ждали стихов о дожде. До Пастернака, — объясняет Цветаева, — «как изумительно ни писали природу, но все о, никто ее: самое: в упор… Он так дает пронзить себя листу, лучу, что уже не он, а: лист, луч». Кому говорит Пастернак? «Читатель Пастернака, и это чувствует всякий, — соглядатай. Взгляд не в его, пастернакову, комнату (что он делает?), а непосредственно ему под кожу, под ребро (что в нем делается?). При всем его (уже многолетнем) усилии выйти из себя, говорить тем-то (даже всем), так-то и о том-то», — речь идет о раннем Пастернаке, — «Пастернак неизменно говорит не так и не о том, а главное — никому. Ибо это мысли вслух. Бывает — при нас. Забывает — без нас. Читатель Пастернака — не читатель, а подслушиватель, соглядатай, даже следопыт». Пастернак весь на читательском творчестве. А к чему же приводит, в конце концов, такое соавторство? И про это Цветаева говорит так (это Цветаева объясняет, комментируя то стихотворение Пастернака «Весна», в котором он сравнивает свою поэзию с губкой): «Губка Пастернака — сильно окрашивающая. Все, что вобрано ею, никогда уже не будет тем, чем было, и мы, вначале утверждавшие, что такого (как у Пастернака) дождя никогда не было, кончаем утверждением, что никакого, кроме пастернаковского, ливня никогда не было и быть не может»6). Итак, можно кое-что резюмировать. Мы привыкли в поэзии к описанию природы, жизни. А у Пастернака ее запись.
Художественная запись — это не фотографирование, не калькирование, не «отображение», как у нас любят говорить, действительности. Привожу слова Пастернака: «Искусство есть запись смещения действительности, производимого чувствами»7). Другими словами: чувства человека производят некое смещение действительности. И художник его фиксирует. Чтобы понять пастернаковскую запись, необходимо проникнуться чувством, которое смеща
Áîðèñ Ïàñòåðíàê
Êàê áðîíçîâîé çîëîé æàðîâåíü,
Æóêàìè ñûïëåò ñîííûé ñàä.
Ñî ìíîé, ñ ìîåé ñâå÷îþ âðîâåíü
Ìèðû ðàñöâåòøèå âèñÿò.
È, êàê â íåñëûõàííóþ âåðó,
ß â ýòó íî÷ü ïåðåõîæó,
Ãäå òîïîëü îáâåòøàëî-ñåðûé
Çàâåñèë ëóííóþ ìåæó.
Ãäå ïðóä — êàê ÿâëåííàÿ òàéíà,
Ãäå øåï÷åò ÿáëîíè ïðèáîé,
Ãäå ñàä âèñèò ïîñòðîéêîé ñâàéíîé
È äåðæèò íåáî ïðåä ñîáîé.
Ñîçíàíèå ÷åëîâåêà, êàê ñîâîêóïíîñòü ïåðåæèòîãî è âîñïðèíÿòîãî, â öèâèëèçàöèè çàïàäà, òî åñòü öèâèëèçàöèè ðàññóäêà, áåçóñëîâíî, âåùü âåñüìà çàõëàìë¸ííàÿ. È, åñëè ïðèíÿòü ôàêò, ÷òî âîñïðèíèìàåìîå âîêðóã òîæäåñòâåííî âíóòðåíåìó ìèðó, âûõîäèò, ÷òî ìèð, êàê ìû åãî âèäèì, ïðîñòî ñâàëêà èñòîðèè, ñïðåñîâàíàÿ ñèëîé òÿæåñòè âðåìåíè.
Âîïðîñ: «À ñóùåñòâóåò ëè ñîñòîÿíèå, â êîòîðîì Âîñïðèÿòèå îñâîáîæäåíî îò îãðàíè÷åíèé âíóòðåííåãî ìèðà?» Ñòèõîòâîðåíèå Á. Ïàñòðåíàêà «êàê áðîíçîâîé çîëîé…» ÿâëÿåò ñîáîé òðàíñêðèïöèþ äàííîãî ñîñòîÿíèÿ, àëãîðèòì àêòóàëèçàöèè âíèìàíèÿ, ÿâëÿåò ñîáîé çàôèêñèðîâàííûé óãîë âçîðà.
Ïåðâûå äâå ñòðîêè ñëóæàò âçë¸òíîé ïîëîñîé, çàäàþò ðèòì è ìàøòàá îáðàçíîñòè. Íåâûãîðàþùèå óãëè æèçíè â äðåìëþùåì íî÷íîì ñàäó ñûïÿòñÿ ñ äèíàìèêîé òðÿñóùåãîñÿ ñèòà.
Äàëåå, â òðåòüåé è ÷åòðâ¸ðòîé ñòðîêå, «âðîâåíü», íàïðîòèâ, ãëàç-ê-ãëàçó, ñî ñâå÷îé- èñòî÷íèêîì ñâåòà, íàïðàâëåíèåì âçãëÿäà, îãí¸ì ñîçíàíèÿ, ïîÿâëÿþòñÿ «ðàñöâåòøèå ìèðû», öâåòû, îùóøàåìûå àâòîðîì êàê ïîëíîöåíûå ñî-áåñêîíå÷íûå âñåìó âñåëåííûå.
È çäåñü, â ìîìåíò îñîçíàíèÿ áåçãðàíè÷íîñòè âñåãî âîñïðèíèìàåìîãî, íà÷èíàåòñÿ âòîðàÿ ñòðîôà, «íåñëûõàííîé âåðîé» â íåïîâòîðèìîñòü êàæäîãî ìîìåíòà, â ñàìó æèçíü, íî÷ü, ìèã. Âîçìîæíî, ÷òî è ñàìà «íåñëûõàííîñòü» ýòîé âåðû ñâÿçàíà ñ å¸ íåâûñêàçàíîñòüþ, à ñêîðåé äàæå, ñ òèøèííîé ïðèðîäîé ýòîé «âåðû». È çäåñü âíóòðåííÿÿ òèøèíà îòâðàùàåò âçãëÿä îò ðåôëåêñèè è ñòàíîâèòüñÿ âèäíî, êàê ñåðûå íî÷üþ òîïîëÿ, ïî-çåìíîìó ïîò¸ðòûå, çàâåñèëè íåáåñíûé ñâåò ëóíû.
 äåâÿòîé ñòðîêå ñòèõîòâîðåíèå ñèíîíèìîíè÷íî ñëîâó «Áîã», âçÿòîì â áûòîâîì è ëèòåðàòóðíîì ñìûñëå, òî åñòü êàê èñòî÷íèê âñåãî, «Îêîí÷àòåëüíàÿ ïðè÷èíà», êàê ïèñàë Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé. È èíòåíñèâíîñòü âîñïðèÿòèÿ «Íåñëûõàíîé âåðû»- îùóùåíèå êàæäîãî ìîìåíòà æèçíè, âíå çàâèñèìîñòè îò âíåøíèõ îáñòîÿòåëüñòâ è íåäóãîâ, êàê íåïîâòîðèìîé ìèñòåðèè, è ïîçâîëÿåò Ïàñòåðíàêó ÷óâñòâîâàòü â íî÷íîì ïðóäó ýòó òàéíó, ýòî âñåìèëîñòèâèéøèé èñòî÷íèê, è íåìèíóåìî ïîíÿòü, ÷òî èìåííî ýòà òàéíà è «ßâèëà» åìó âåñü ýòîò ìèð, êàê îáüåêò âñåãî ÷òî îñîçíà¸ò äóøà- ïðåäïîëîæèì, òîò îðãàí ñîçíàíèÿ, ôóíêöèåé êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ áåçîãîâîðî÷íîå ïðèÿòèå. Ïîæàëóé, çäåñü îñòà¸òüñÿ òîëüêî ÷óâñòâîâàòü, ñëóøàòü øóì ëèñòâû ÿáëîíü, ñìîòðåòü íà íåáî, ïîäï¸ðòîå êîëîíàäîé ñàäà, è. êàê ïèñàë Ïàñòåðíàê â ïîçäíåì, íî íå ìåíåå èçÿùíîì ñòèõîòâîðåíèè»Òîëüêî æèòü, è òîëüêî- äî êîíöà!»
Àíãëèéñêèé Ñèìâîëèñò íà÷àëà äåâÿòíàäöàòîãî âåêà (èìåííî äåâÿòíàäöàòîãî, çäåñü íåò îãîâîðêè- îí íà ñòî ëåò îïåðåäèë Âðåìÿ)- Áëåéê, â ñâîåì ñáîðíèêå «Ïåñíè íåâèíîñòè, ïåñíè Îïûòà» èçó÷èë âëèÿíèå æèçíåííûõ ïåðåæèâàíèé, îñòàâøèõñÿ ïîçàäè, è ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî îäíèì èç êðèòåðèåâ Îñîçíàíîñòè ÿâëÿåòüñÿ ñïîñîáíîñòü ñîçíàíèÿ îòðåøàòüñÿ îò ïàìÿòè. Âîçìîæíî, èìåííî ýòî èìåë â âèäó Èèñóñ Õðèñòîñ, ãîâîðÿ «áóäòå êàê äåòè». Äàëüíåéøèì ðàçâèòèåì ýòîé êîíöåïöèè ïðåäñòàâëÿåòüñÿ èäåÿ, ÷òî âîçìîæíî ïàðàëëåëüíîå èñïîëüçîâàíèå ñîñòîÿíèé íåâèííîñòè è îïûòà.
Ýòî ñîñòîÿíèå îí íàçâàë Îïûòíàÿ Íåâèííîñòü- ñîñòîÿíèå Ëè÷íîñòè, êàê ñîçíàíèå, îïðåäåëÿþùåå áûòè¸, à íåîïðåäåëÿåìîå èì. Ñîñòîÿíèå äåÿòåëüíîé ëþáâè, ðàäîñòíîãî ñîçèäàíèÿ. Èìåííî ýòèì ÷óâñòâîì ïðîíèçàíà ïîýòèêà Ïàñòåðíàêà.
Ñòèõîòâîðåíüå Á.Ïàñòåðíàêà «Êàê áðîíçîâîé çîëîé…», ïîðàçèòåëüíîå ÷èñòîòîé è ÿñíîñòüþ îáðàçîâ, åñòü íåñîìíåííîå, çàôèêñèðîâàííîå ñâèäåòåëüñòâî ÿñíîñòè è ÷èñòîòû óìà è âîñïðèÿòèÿ. Óìà, ñâîáîäíîãî îò íåãàòèâíûõ è çëîêà÷åñòâåííûõ âîçäåéñòâèé Îïûòà. Íå åãî àâòîðà, âî âñÿêîì ñëó÷àå- íå òîëüêî, íî ÷åëîâåêà- òîæäåñòâåííîãî Òâîðöó ñóùåñòâà.
Источник