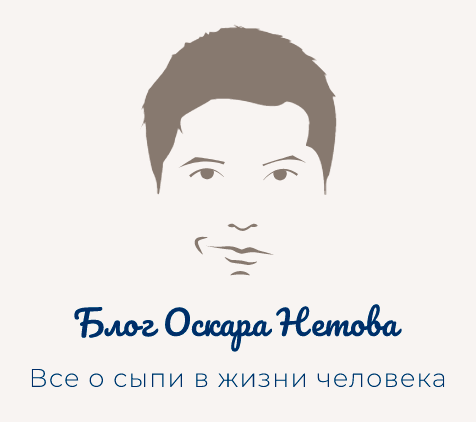Ольга фокина сыпь снежок

Поэма
Сыпь, снежок, растаивай,
Ох, да падай снова!
…Я была Пылаева,
А теперь — Смирнова…
Околелым веником
Обмела крылечко,
Пошуршала в сеннике,
Растопила печку.
Торопливым шепотом
Разбудила мужа:
Остальные хлопоты
Все — ему, кому же?
Управляй ребятами,
Да чтобы без реву!
Шевели ухватами,
Обряжай корову.
…Ой, и снегу выпало!
Утопель! Недаром
Ночью ветер всхлипывал,
Колотился яро.
Фитилек застенчивый
В фонаре трепещет.
Хоть бы уберечь его!
Сдунуло… У-у, леший!
Спробовала выбрести
Без огня. Куда там!..
Воротилась — вытрясти
Снег и взять лопату.
Погребла, похрупала,
В темноте порылась —
Твердое нащупала:
Тропка оглавилась.
Объявилась, матушка,
Вот и слава Богу:
Все же не впокатушку
Начинать дорогу.
…Инеем припудрена
Дверь. Знаком и дорог,
Встретил светлый утренний
Перезвон ведерок.
Меж коров ауканье
Озорных товарок.
Это, коль без ругани,
Тоже — как подарок.
И росло добро в душе,
И, пока доила,
Каждой из коровушек
Что-то говорила.
Те стояли, слушали
Ласково-простое,
Молоко погуще ей
Отдавали: стоит!
Первотелки вздорные
Вдруг стихали сами,
Провожали добрыми,
Грустными глазами.
Лишь из ясель выгребла,
Слышит: — Евдокия! —
Руки сеном вытерла,
Вышла: — Кто такие? —
Оба незнакомые,
Вроде городские,
Уж не из обкома ли,
Экие баские?
Чуть смутилась: — Кликали? —
Отвечают: — Точно!
— Что ж, домой идти, коли?..
Засмеялись: — Срочно! —
Третий, незамеченный,
Щелкнул аппаратом:
Фото обеспечено! —
Дуня — виновато:
Я ж ненаряженпая,
Погодить бы малость,
Выйду, как бажоная —
Что кому за радость? —
Трое улыбаются:
— Добре! И без брошки
Вы у нас — Красавица,
Дело не в одежке. —
С рукава фуфаины
Отряхнула трушку,
Пооббила валенки.
Села в легковушку.
В легковушке — долго ли?
Пять минут — и дома!
Дети «Волгу» трогали,
Чистили соломой
Чуть припорошенные
Крылья и колеса…
Глазки, как зажженные,
Вспыхнули вопросом,
Шасть — и в избу, лапушки,
И при всех толкуют:
Мамушка, а мамушка,
Нам бы вот такую! —
Улыбнулась: — Будете
Умными, большими,
Сразу, детки, купите
Каждый по машине.
На душе оттаяло,
Будто так и надо.
Самовар поставила,
И в пиджак с наградой
(Со Звездой и с Лениным),
В юбку-плиссировку
Облеклась…
Как велено,
Подчернила бровку.
Погоняли по снегу,
Всяко поснимали:
То поближе к сосенкам,
То опять подале,
За халатом сбегала —
Сняли и в халате.
Покосилась в зеркало:
—А, бывай, и хватит?
(«Уж не та, однако, я!» —
Мысли набежали.) —
Вновь снимают всякую:
В шали и без шали.
На лице — устала! — тень.
Вроде как с угару…
Отпустили, слава те,
К печке, к самовару.
Вот и «белоглавая»,
Вот и стол готовый…
— Ох, забыла, право, я:
У меня ж коровы!
Извиняйте, гостюшки! —
И метнулась в сени: —
Добегу до Тонюшки,
Попрошу — заменит.
…Что же порассказывать?
Все ведь вам известно.
Да и вспомнить сразу-то…
Разве — про поездку?
Как из рук Буденного
Орден получала?
А, бывай, удобно вам
Про коров сначала?
— Про себя! — настаивал
Смуглый, чернобровый.
— Что ж… была — Пылаева,
А теперь — Смирнова… —
Рюмка светится насквозь,
Пригубила малость.
Что за чаем вспомнилось,
За вином — сказалось.
— Я была Пылаева
В девках-то. Пыла-ала!
Не один обаивал —
Близко не пускала!
Потому — куда его,
Если он — не милый?
Не живой, не боевой?
Я — плясать любила.
Как затею на лугу —
Люди смотрят — баско!
А на ферму побегу —
Дак опять с припляской.
Дроби-дроби выдроблю,
На кругу смела я!
Дролю, дролю выберу —
Какого желаю!
Сапожок разношенный
Так стучит, что с платья
Сыплются горошины:
Есть кому собрать их!
Было, да, имелося,
Счастье — попадалось!
Оттого и пелося,
Оттого — плясалось.
Только было, да ушло
С пареньком на службу.
Расставались тяжело,
Но расстались дружно.
Пять годков ждала его —
Милого, родного,
Бойкого, чернявого…
Верила на слово,
Подтверждал и письмами:
«Отслужу — приеду:
Не весной, так осенью,
Не в четверг, так в среду».
Не казала я тоску
И ходила гордо:
Мой — рекорд по молоку!
Мой — рекорд по спорту!
Занимала, чем могла,
Каждую минуту:
Хорошо пойдут дела —
Угожу ему-то!
…Воротился он домой
Ранней зорькой вешней.
Воротился, да — другой,
Нет, не тот, не прежний!
— Ты, Дуняха, — говорит, —
Знаменитой стала,
От тебя теперь обид
Будет мне немало.
У тебя теперь пойдут
Совещанья, съезды,
Нынче там, а завтра — тут,
Не согреешь места.
Через это — ухожу.
Уезжаю то есть.
Время будет — напишу. —
И пошел. На поезд.
Я не позвала его.
Нет, не воротила.
— Не скучай, Пылаева!
— Постараюсь, милый.
Май шумел. Росла трава.
Сохло все сырое.
Через месяц или два
Дали мне Героя.
Помню, как на блюдце вот,
Середи-то зала,
С Катериной Фурцевой
«Русского» плясала.
Туфельки — не ношены!
Новехонько платье!
Сыплются горошины —
Некому собрать их…
А теперь я замужем
За Смирновым Ваней.
Он по всем статьям мужик
Золотой. Механик.
Мне всегда уноровит
Делом и советом.
Только я — как инвалид,
Ноет что-то где-то.
И расти — уж не расту.
Юность памятуя,
И на новую Звезду —
Нет, не претендую.
Рана старая болит —
Не таю секрета:
В сердце тот же динамит,
Да запала нету.
Что уж тут утаивать —
Видят и коровы:
Отошла Пылаева,
Началась Смирнова.
Ольга Фокина, лауреат Государственной премии РСФСР им. Горького
Приглашаем обсудить этот материал на форуме друзей нашего портала: «Русская беседа»
Источник
Ольга Фокина
СЫПЬ, СНЕЖОК…
Сыпь, снежок, растаивай,
Ох, да падай снова!
…Я была Пылаева,
А теперь – Смирнова.
Околелым веником
Обмела крылечко,
Пошуршала в сеннике,
Растопила печку.
Торопливым шепотом
Разбудила мужа;
Остальные хлопоты
Все ему, – кому же?
Управляй ребятами,
Да чтобы без реву!
Шевели ухватами,
Обряжай корову.
…Ой, и снегу выпало!
Утопель! Недаром
Ночью ветер всхлипывал,
Колотился яро.
Фитилек застенчивый
В фонаре трепещет.
Хоть бы уберечь его!
Сдунуло… У, леший!
Спробовала выбрести
Без огня. Куда там!..
Воротилась – вытрясти
Снег и взять лопату.
Погребла, похрупала,
В темноте порылась –
Твердое нащупала:
Тропка оплавилась.
Объявилась, матушка,
Вот и слава Богу:
Все же не впокатушку
Начинать дорогу.
…Инеем припудрена
Дверь. Знаком и дорог,
Встретил светлый утренний
Перезвон ведерок.
Меж коров – ауканье
Озорных товарок.
Это, коль без ругани,
Тоже – как подарок.
И росло добро в душе,
И, пока доила,
Каждой из коровушек
Что-то говорила.
Те стояли, слушали
Ласково-простое,
Молоко погуще ей
Отдавали: стоит!
Первотелки вздорные
Вдруг стихали сами,
Провожали добрыми,
Грустными глазами.
Лишь из ясель выгребла,
Слышит: «Евдокия!» –
Руки сеном вытерла,
Вышла: «Кто такие?» –
Оба незнакомые,
Вроде городские,
Уж не из обкома ли,
Экие баские?
Чуть смутилась: «Кликали?» –
Отвечают: «Точно!» –
«Что ж, домой идти, коли?..» –
Засмеялись: «Срочно!» –
Третий, незамеченный,
Щелкнул аппаратом:
«Фото обеспечено!» –
Дуня – виновато:
«Я ж ненаряженная,
Погодить бы малость,
Выйду, как бажоная, –
Что кому за радость?»
Трое улыбаются:
«Добре! И без брошки
Вы у нас – красавица,
Дело ж не в одежке».
С рукава фуфаины
Отряхнула трушку,
Пооббила валенки,
Села в легковушку.
В легковушке – долго ли?
Пять минут – и дома!
Дети «Волгу» трогали,
Чистили соломой
Чуть припорошенные
Крылья и колеса…
Глазки восхищенные
Вспыхнули вопросом,
Шасть – и в избу, лапушки,
И при всех толкуют:
«Мамушка, а мамушка,
Нам бы вот такую!» –
Улыбнулась: «Будете
Умными, большими,
Сразу, детки, купите
Каждый по машине!»
На душе оттаяло,
Будто так и надо.
Самовар поставила,
И в пиджак с наградой
(Со Звездой и Лениным),
В юбку-плиссировку
Облеклась…
Как велено,
Подчернила бровку.
Погоняли по снегу,
Всяко поснимали:
То поближе к сосенкам,
То опять подале.
За халатом сбегала –
Сняли и в халате.
Покосилась в зеркало:
«А, бывай, и хватит?»
(«Уж не та, однако, я!» –
Мысли набежали.)
Вновь снимают всякую:
В шали и без шали.
На лице (устала!) – тень,
Вроде как с угару…
Отпустили, слава те,
К печке, к самовару.
Вот и «белоглавая»,
Вот и стол – готовый…
«Ох, забыла, право, я:
У меня ж коровы!
Извиняйте, гостюшки!» –
И метнулась в сени:
«Добегу до Тонюшки,
Попрошу – заменит».
«…Что же порассказывать?
Все ведь вам известно.
Да и вспомнить сразу-то…
Разве – про поездку?
Как из рук Буденного
Орден получала?
А, бывай, удобно вам
Про коров сначала?» –
«Про себя!» – настаивал
Смуглый чернобровый. –
«Что ж… была – Пылаева,
А теперь – Смирнова…»
Рюмка светится насквозь,
Пригубила малость.
Что за чаем вспомнилось,
За вином – сказалось.
«Я была Пылаева
В девках-то: пылала!
Не один обаивал –
Близко не пускала!
Потому – куда его,
Если он – не милый?
Не живой, не боевой?
Я – плясать любила!
Как затею на лугу –
Люди смотрят: баско!
А на ферму побегу –
Дак опять с припляской!
Дроби-дроби выдроблю,
На кругу смела я!
Дролю, дролю выберу –
Какого желаю!
Сапожок разношенный
Так стучит, что с платья
Сыплются горошины:
Есть кому собрать их!
Было, да, имелося
Счастье, попадалось!
Оттого и пелося,
Оттого – плясалось.
Только было – да ушло
С пареньком на службу.
Расставались тяжело,
Но расстались дружно.
Пять годков ждала его –
Милого, родного,
Бойкого, чернявого…
Верила на слово,
Подтверждал и письмами:
«Отслужу – приеду:
Не весной, так осенью,
Не в четверг, так в среду».
Не казала я тоску
И ходила гордо:
Мой – рекорд по молоку!
Мой – рекорд по спорту!
Занимала, чем могла,
Каждую минуту:
Хорошо пойдут дела –
Угожу ему-то!
…Воротился он домой
Ранней зорькой вешней.
Воротился, да – другой,
Ох, не тот, не прежний!
Зашатались потолки,
Оступились ноги,
Подломились каблуки…
«Нам – не по дороге.
Ты, Дуняха, – говорит, –
Знаменитой стала,
От тебя теперь обид
Будет мне немало.
У тебя теперь пойдут
Совещанья, съезды,
Нынче – там, а завтра – тут,
Не согреешь места.
Через это – ухожу,
Уезжаю то есть.
Время будет – напишу». –
И пошел. На поезд.
Я не позвала его.
Нет, не воротила.
«Не скучай, Пылаева!» –
«Постараюсь, милый».
Май шумел. Росла трава.
Сохло все сырое.
Через месяц или два
Дали мне Героя.
Помню, как на блюдце вот,
Середи-то зала
С Катериной Фурцевой
«Русского» плясала.
Туфельки – не ношены!
Новехонько платье!
Сыплются горошины –
Некому собрать их…
А теперь я замужем
За Смирновым Ваней.
Он по всем статьям мужик
Золотой. Механик.
Мне всегда уноровит
Делом и советом.
Только я – как инвалид,
Ноет что-то где-то.
И расти – уж не расту,
Юность памятуя,
И на новую Звезду –
Нет, не претендую.
Рана старая болит –
Не таю секрета:
В сердце тот же динамит,
Да запала нету.
Что уж тут утаивать –
Видят и коровы:
Отошла Пылаева,
Началась Смирнова.
1966
Источник
«СКРОМНЫЙ, НО ИСТИННЫЙ ТАЛАНТ…»
(Поэзия Ольги Фокиной)
Критик А. Макаров, никогда не
бросавший слов на ветер, в рецензии на первый
сборник стихотворений О. Фокиной «Сыр-бор»
сказал так: Давно я не читал таких душевных
стихов о матери, отце, деревенских парнях и
ребятах… Скромный, но истинный талант…».
Ольга Александровна Фокина
родилась 2 сентября 1937 года в деревне
Артемьевской Архангельской области. Родители ее
— крестьяне. Отец умер после ранения в 1943 году, в
семье осталось пятеро детей. «Я все видела и
все понимала, — вспоминала Фокина. — Цель жизни
была такова: сделать маму счастливой». Семья
держалась, но к концу войны мать была вынуждена
дать младшим по суме из береженой холстины и
отправить просить подаяние…
Я криком кричала, молчанье
храня:
— Подайте, коль можете, ради меня
И ради братишек, таких же, как я! —
И руку выпрастывала из тряпья.
О. Фокина сумела окончить
семилетку и Архангельское медицинское училище с
отличием. Некоторое время работала фельдшером в
родном районе, а в 1957 году поступила в
Литературный институт им. А.М. Горького, в
поэтический семинар Николая Сидоренко (позднее в
этом семинаре стал учиться Николай Рубцов). Там
она познакомилась не только с Рубцовым, но и с В.
Беловым, С. Викуловым, А. Романовым… В 1963 году в
Москве в издательстве «Молодая гвардия»
вышла книга «Сыр-бор», через три месяца — в
июне 1963 года — Фокина получила билет члена Союза
писателей, а с осени этого же года стала жить и
работать в Вологде. Напутствовал начинающую
поэтессу выдающийся мастер слова Борис Шергин:
«Любовь к матери земле — свойство для всякого
художника изначальное, доброчестное. Здесь
дыханье чистое, здоровье душевное, зренье
светлое». Он выделил следующие черты ее стиля:
чувство природы, живой слог речи, лирическую
исповедальность. В 1966 году другой будущий
классик, Н. Рубцов, в статье «Подснежники Ольги
Фокиной» написал: «Поэты — носители и
выразители поэзии, существующей в самой жизни — в
чувствах, мыслях, настроениях людей, в картинах
природы и быта». В качестве примера он
процитировал фокинское четверостишие:
Простые звуки родины моей:
Реки неугомонной бормотанье
Да гулкое лесное кукованье
Под шорох созревающих полей.
«Стих не сконструирован, —
отмечал Рубцов, — а искренне и трепетно передает
такое подлинное состояние души, которое просто
родственно лермонтовскому». В этой же статье Н.
Рубцов сделал следующий вывод: «Многим стихам
Ольги Фокиной в смысле формы (выделено мной. — В.Б.)
свойственно слияние двух традиций: фольклорной и
классической».
За исключением своего первого
сборника, во многом ученического, Фокина в своих
книгах середины 1960-х — 1970-х годов («Реченька»
(1965), «Аленушка» (1967), «Стихи» (1969),
«Островок» (1969), «Самый светлый день»
(1971), «Избранная лирика» (1971), «Камешник»
(1973), «Маков день» (1974)) старательно следовала
этим двум традициям. Во-первых, ее художественное
сознание было близким народнопоэтическому «и
своим органическим демократизмом языка и чувств,
и естественным слиянием лирического переживания
с общенародным эстетическим идеалом, выраженным
в сказках, частушках, песнях, пословицах, и,
наконец, внутренней родственностью всей
образной системы» (П. Выходцев). Поэтому так
много в ее лирике олицетворений, обращений к
родной земле, рекам, солнцу, сказочных мотивов;
нередко Фокина использует традиционные
фольклорные сравнения, диалектизмы, слова с
уменьшительно-ласкательными суффиксами:
Приезжай, моя доченька,
Хоть на два-три денечика.
Навести свое гнездышко,
Подыши чистым воздушком.
Любимые жанры Фокиной — песня и
частушка. Песенный строй ее многих стихотворений
(«Провожанье», «Есть у меня два
полюса…», «Песни у людей разные…», «Мой
хрустальный апрель!», «Ах рыбаки, проспали
зорю…», «С каждым человеком уходящим…» и
др.) очевиден. В стихотворении «Тонькина
рябина» Фокина сознательно подчеркивает эту
связь:
Что стоишь, качаясь,
Тонькина рябина?
У тебя — ни сада,
У тебя — ни тына.
Частушечный ритм («Первый
снег», «Майское», «Пишут девочки в
газету…») тоже характерен для О. Фокиной. Даже
в поэмах слышен все тот же ритм:
Сыпь, снежок, растаивай,
Ох, да падай снова!
…Я была Пылаева,
А теперь Смирнова.
( «Сыпь, снежок…» )
Однако ее стихотворения, в
отличие от частушек, ограниченных строго
определенными формами поэтического
параллелизма, более широки и свободны в
самораскрытии лирического чувства, язык их
индивидуализирован.
В творчестве О. Фокиной
проявилось общее для литературы ХХ века стилевое
смешение, например, сплав диалектизмов и обычной
лексики:
— Вы не хмурьтесь, братовья,
Ведь со мною жить дивья!
— Люди-то в лес-от с кузовьем
бегут.
— Давно тебя не видела,
Споткнулась — и покликала.
Ольга Фокина — носительница
живой речи народа, поэт органический, не
«кабинетный». «Однажды в Вологду приехала
студентка из МГУ, «командированная» узнать,
какими словарями я пользуюсь в своей творческой
работе. Я была обрадована, оскорблена и смущена
одновременно. Обрадована вниманием. Оскорблена
подозрением о вторичности моих словарных
запасов. Смущена тем, что словарями обзавестись —
ни одним! — не успела. Студентка, мне кажется,
уехала разочарованной». По словам Федора
Абрамова, «у Ольги Фокиной есть свой язык, по
которому ее можно отличить от других поэтов».
Его музыка узнается сразу:
Зеленой поймой
Струится Тойма,
За той за Тоймой —
Ой, золотой мой…
На стихи О. Фокиной написано
около сотни песен. Среди композиторов — Валерий
Гаврилин, братья Заволокины.
Вторым после фольклорного, но не
менее плодотворным направлением в творчестве
Фокиной стало обращение к некрасовской традиции.
И не только потому, что сюжеты ее стихотворений
порой повторяют Некрасова, — так, например, в
стихотворении «Пожилая вдова, вдова…» видна
прямая перекличка с поэмой «Мороз, Красный
нос» — вдова зимой рубит дерево в лесу и
погибает:
Затуманилась голова,
Закачалась, как ель, вдова.
Тихо ткнулась руками в снег…
Вот и кончился человек.
Некрасовская традиция видна
прежде всего в изображении жизни русской
крестьянки, ее тяжелой женской доли:
Станут слезы комом в горле…
Удержи их, убери:
Это горюшко — не горе,
Горе будет впереди.
Лирические монологи женщины,
пережившей «военные годины, послевоенные»,
наполнены печалью:
Знаю, что на месте поселка
Нашего — пустырь и разор.
Только одинокая елка
Не упала там до сих пор.
С. Викулов в статье, посвященной
творчеству поэтессы, писал: «Удивительно
чистый, нравственно цельный образ русской
крестьянки встает из стихов О.Фокиной о матери.
Растя детей в тяжелейших условиях военной поры,
она озабочена не только тем, чтобы не дать
умереть им с голоду, она бережет их души от
безверья, прививает им лучшие качества, какие
усвоила от отца и деда сама: трудолюбие,
совестливость, готовность к самопожертвованию
ради общего блага». Мать для лирической
героини Фокиной — самый дорогой человек на земле,
самый высокий нравственный авторитет:
Гордая моя мама!
Горькая твоя доля
Голову носить ниже
Так и не научила.
Держишь ее — как надо:
Дерзостью встретишь дерзость,
Вдесятеро заплатишь
Людям за доброту…
Виктор Астафьев, кроме
«трагедии войны» и «вечной песни
женщины-матери», в стихах и поэмах Фокиной
выделил главное: «тему судьбы народной». Он
отметил также стремление поэтессы передать
«благородство людей деревни, величие их
духа». Истоки этого величия — в понимании того,
что живут они на своей земле: «Во мне любовь к
земле неистребима, — пишет Фокина, — и желание
поведать о ней лежит в основе моих созданий».
К сожалению, в стихотворениях,
посвященных «социально масштабным,
характерным» явлениям действительности,
подлинной художественной высоты Фокина не
достигала. Непонимание истинных причин
разорения российской деревни делало ущербным
стиль, в котором отсутствовало общее элегическое
настроение, а было простое бытописание («Ах,
как строится нынче деревня!», «Ты приедешь в
воскресенье…»). Если Рубцов шел от «личного
к общему», то у Фокиной «общее делалось
личным», субъективизм стал причиной узкого
набора лирических тем.
Начиная со второй половины 1970-х
годов в творчестве О. Фокиной появились,
казалось, новые черты. В сборниках «От имени
серпа» (1976), «Полудница» (1978), «Маков
день» (1978), «Буду стеблем» (1979), «Речка
Содонга» (1980) и др. Фокина стремилась выйти из
привычного круга своей поэзии, стихи стали
приобретать мировоззренческую, философскую
наполненность, природную образность и песенную
плавность речи дополнила рефлексия, в лирике
Фокиной появился образ дороги как символа жизни
и судьбы:
Жизнь, наобходившаяся строго,
Чувствую, прошла не без следа.
…Ужас перед каждою дорогой,
Ты меня оставишь ли когда?
В лучших своих стихах («Боюсь,
что не правда, а снится…», «Начало иль конец?
Конец или начало?», «Я повторяю мудрую
ошибку…» и др.) вопросительные интонации
подчеркивали драматизм происходящего с
лирической героиней, напоминали строй заговора,
плача:
…Ревущие турбины,
Заглушите плач издалека!
…Край мой милый! Край ты мой
родимый!
Ты со мной, со мной еще пока.
В программном стихотворении
«Всего-то и было: зима да весна…» глубоко
символичные образы судьбы (звезда), жизни (дорога,
колесо, колесница) делают его возвышенным,
философски значительным. На «разумный»
вопрос прохожего: «Не время ли
остановиться?» лирическая героиня отвечает
так:
Мне долго по свету еще колесить
Без права устать и разбиться, —
Ничто не заменит меня на оси
Единственной, той колесницы…
Еще П.Выходцев заметил
«символический параллелизм» в стихах
Фокиной. Действительно, символика ее
стихотворений в своей основе близка к
народнопоэтической (а это уже более высокий
уровень фольклоризма) , но она крайне
немногочисленна и поэтому не выходит за рамки
традиционного набора символов профессиональной
поэзии, несмотря на весь внешний
«фольклорный» облик. Исследованиями не
подтверждается стойкое представление о Фокиной
как искусной «словесной кружевнице».
Устойчивые сочетания, например, она использует
«умеренно… Большая часть привлеченных
поэтессой фразеологизмов употреблена
нормативно» (Некрасова Е, Бакина М. Языковые
процессы в современной поэзии. М., 1982).
Поэмы Фокиной («Полудница»,
«Хозяйка», «Малина твоя») во второй
половине 1970-х годов стали приобретать эпические
черты, от воспоминаний военного детства поэтесса
шла к осмыслению истории. «Я много думала о
жизни родной деревни, — писала она, — и пришла к
выводу, что сельское хозяйство, сельский житель —
это не только производство продуктов питания,
это история жизни народа, и относиться к
сегодняшнему дню только как к сегодняшнему —
нельзя, тут неумолима связь с прошедшим и
будущим, и ее надо глубоко знать и прозорливо
предвидеть.» Изменился язык поэм, песенность
отошла на второй план, в них стала преобладать
разговорная речь. Фокина словно сама говорила
«языком своих любимых героев — настолько она
сроднилась с ними, настолько они близки и понятны
ей, их образ мысли, их психология, их
представления о жизни.» (С. Викулов).
Казалось, еще немного — и
поэтесса сумеет закрепить найденную верную
интонацию, сумеет продолжить тему, по-своему
значительную. Но неровность ее многочисленных
сборников стихотворений сводила «на нет»
все приобретения. Стремление поэтессы «объять
необъятное», излишние подробности,
бытописание, а иногда и просто неудачи («Что ли
мне тебя побаловать…», «Ах, незнакомая
дорога…») разрушали цельность ее поэзии.
Особенно обидные промахи она допускала тогда,
когда шла против жизненной правды. Так, в
стихотворении «Он не уехал из колхоза…»
сомнительна речь пятнадцатилетнего подростка:
И мне над миром не подняться,
Не оторваться от земли,
Пока со мной не окрылятся
Края, что к сердцу приросли.
Скорее это слова самой поэтессы.
В 1980-х годах вышли новые
сборники О.Фокиной: «Памятка» (1983), «Три
огонька» (1983), «Колесница» (1983),
«Избранное» (1985), «За той, за Тоймой…»
(1987), «Матица (1987). Лучшим в них было то, что
поэтесса сумела передать ощущение развала, горя
и в опоганенной, отравленной природе, и в
человеческой душе. В стихотворении «Поезд,
стой! Помедли малость…» нарисована картина
разрушения земли не сыновьями ее, а пасынками:
Рой — взрывай, стирая грани!
Лес — в дыму, земля — в золе:
Лишь бы нынче — рубль в кармане
Да бутылка на столе…
Стирая грань «меж городом и
селом» (Рубцов), новоявленные «устроители
лучшей жизни» стерли вместо нее
«неперспективные» деревни, а с ними — и
нравственные устои. И болит душа поэтессы, когда
она видит, как замалчивается правда о народной
трагедии:
Выходит свежая газета,
И в ней деревня говорит,
Но только снова — не об этом…
И у меня душа болит.
В стихи Фокиной влилась сильная
публицистическая струя. Поэтесса призывала
воскресить «сеятеля — сына Руси»,
протестовала против проекта поворота северных
рек: «У Двины хотят отрезать голубой ее
приток»; саркастически замечала, что мы «все
пихаемся «во дворянство», Мало жаждущих во
крестьянство…» Фокина не могла молчать, она
«кричала от боли»: «…Лелеяное веками,
Какое огромное поле Теперь заросло сорняками!»
Где же выход? Поэтесса давно сделала для себя
вывод: истина жизни — в труде («Имеющему голос
спеть…»).
Вторая половина 1980-х — 1990-е годы
оказались для поэтессы самыми сложными и в
жизненном, и в творческом отношении. Перестали
выходить сборники (пауза продлилась десять лет —
с 1987-го по 1997 год (сборник «Попахни,
черемушка»)), в журнальных публикациях палитра
чувств порой ограничивалась только двумя
эмоциональными красками: возмущением и
растерянностью. Раскол в обществе Фокина
сравнивает с ледоходом:
На льдине, на льдинке
Похвально — отдельно
Плывем поодинке,
Поврозь, неартельно.
Несет нас, качает
Под воплями чаек,
Не чуем, не чаем,
Куда мы причалим…
«Не все появляющиеся у меня
стихи я могу отнести к настоящей поэзии, —
признается поэтесса. — Это нечто риторическое,
скептическое, где главенствует политическое
содержание. Слишком далеко от лирики.»
В неизбежности и цикличности
природных и социальных явлений Фокина видит
положительное начало, но не снимает ни с других,
ни с себя личной ответственности: «Не слышим,
не внемлем: Мы любим — не землю.» Очищение и
преображение души даже в самые катастрофические
и позорные годы (а может, именно поэтому!) — вот,
пожалуй, наиболее плодотворная лирическая тема
поэтессы.
В небольшом предисловии к
сборнику «Разнобережье» (1998) О. Фокина
отмечает: «Эти стихи, подавляющее большинство
которых написаны мною за последние десять
«окаянных» лет, — попытка
засвидетельствовать мгновение времени с верой в
безоговорочно мудрое и утешительное: «Пройдет
и это…»
Луг да поле. Роща да дубрава.
Царь да Стенька. Церковь да
кабак.
Воля Волги. Крепость — твердь
Урала.
Умница — Иван-дурак!
Радость — в песенной печали.
Горечь — в пляске удалой…
Как бы где тебя ни величали —
Русь останется собой!
В поэзии О.А. Фокиной видны темы
и мотивы, общие для всего «почвенного»
направления русской поэзии: темы земли и судьбы
России, мотив «умирания» деревни,
периодическое возвращение в нее; мотив сиротства
(у Фокиной он связан с личными жизненными
коллизиями). Важное место в ее творчестве
занимает образ матери.
Обращение к русскому фольклору,
ориентация на народное мировоззрение, в основе
своей крестьянское, тоже признак
«почвенничества». Как, впрочем, и общий
полемический подтекст ее лирики,
эволюционизировавший в открытую
публицистичность…
Храни огонь родного очага
И не позарься на костры чужие —
Таким законом наши предки жили
И завещали нам через века:
Храни огонь родного очага!
Источник