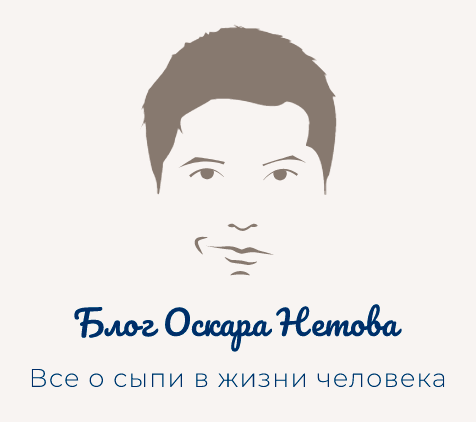Аудитория сыплет вопросы колючие

87 лет назад 21 марта поэт выступил в Волковском театре
Владимир Маяковский.
Изменить размер текста:
Пятницу, 21 марта, Ярославль может отметить в этому году как поэтическую — именно в этот день 87 лет назад наш город приехал знаменитый Владимир Маяковский. Перед зрителями он прочитал несколько своих стихотворений и поэм, а также рассказал о путешествии в Америку «Мое открытие Америки»).
«Вечер прошел оживленно и интересно. Поэт рассказывал (а он хорошо рассказывает) о своем путешествии в Америку и попутно читал стихи: «Нотр-Дам», «Океан», «Белый и черный» и др. После одного из перерывов Владимир Маяковский сообщил радиограмму «Северного рабочего» о взятии Шанхая, встреченную громом аплодисментов», — писала тогда газета «Северный рабочий».
Как гласит история, на том вечере ярославцы забросали поэта вопросами, и он после выступления написал новое стихотворение, опубликованное в том же «Северном рабочем» — «Лучший стих».
Владимир Маяковский «Лучший стих» Аудитория сыплет вопросы колючие, старается озадачить в записочном рвении. — Товарищ Маяковский, прочтите лучшее ваше стихотворение. — Какому стиху отдать честь? Думаю, упершись в стол. Может быть, это им прочесть, а может, прочесть то? Пока перетряхиваю стихотворную старь и нем ждет зал, газеты «Северный рабочий» секретарь тихо мне сказал… И гаркнул я, сбившись с поэтического тона, громче иерихонских хайл: — Товарищи! Рабочими и войсками Кантона Шанхай! — Как будто жесть в ладонях мнут, оваций сила росла и росла. Пять, десять, пятнадцать минут рукоплескал Ярославль. Казалось, буря вёрсты крыла, в ответ на все чемберленьи ноты катилась в Китай, — и стальные рыла отворачивали от Шанхая дредноуты. Не приравняю всю поэтическую слякоть, любую из лучших поэтических слав, не приравняю к простому газетному факту, если так ему рукоплещет Ярославль. О, есть ли привязанность большей силищи, чем солидарность, прессующая рабочий улей?! Рукоплещи, ярославец, маслобой и текстильщик, незнаемым и родным китайским кули! ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Владимир Маяковский: «Лучше застрелиться, чем общаться с дураками!» Маяковский не то, чем кажется; не то, чем пыталась его представить советская пропаганда; не то, чем пытался представить себя он сам. Он был одним из меланхоличным, трепетным, нервным и нежным поэтом, — практически мужская версия Цветаевой (читайте далее).
Владимир Маяковский «Лучший стих»
Аудитория
сыплет
вопросы колючие,
старается озадачить
в записочном рвении.
— Товарищ Маяковский,
прочтите
лучшее
ваше
стихотворение. —
Какому
стиху
отдать честь?
Думаю,
упершись в стол.
Может быть,
это им прочесть,
а может,
прочесть то?
Пока
перетряхиваю
стихотворную старь
и нем
ждет
зал,
газеты
«Северный рабочий»
секретарь
тихо
мне
сказал…
И гаркнул я,
сбившись
с поэтического тона,
громче
иерихонских хайл:
— Товарищи!
Рабочими
и войсками Кантона
Шанхай! —
Как будто
жесть
в ладонях мнут,
оваций сила
росла и росла.
Пять,
десять,
пятнадцать минут
рукоплескал Ярославль.
Казалось,
буря
вёрсты крыла,
в ответ
на все
чемберленьи ноты
катилась в Китай, —
и стальные рыла
отворачивали
от Шанхая
дредноуты.
Не приравняю
всю
поэтическую слякоть,
любую
из лучших поэтических слав,
не приравняю
к простому
газетному факту,
если
так
ему
рукоплещет Ярославль.
О, есть ли
привязанность
большей силищи,
чем солидарность,
прессующая
рабочий улей?!
Рукоплещи, ярославец,
маслобой и текстильщик,
незнаемым
и родным
китайским кули!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Владимир Маяковский: «Лучше застрелиться, чем общаться с дураками!»
Маяковский не то, чем кажется; не то, чем пыталась его представить советская пропаганда; не то, чем пытался представить себя он сам. Он был одним из меланхоличным, трепетным, нервным и нежным поэтом, — практически мужская версия Цветаевой (читайте далее).
ИСТОЧНИК KP.RU
Источник
На капитанском мостке
Аудитория
сыплет
вопросы колючие,
старается озадачить
в записочном рвении.
Политехнический осажден. Смяты очереди. Трещат барьеры. Давка стирает со стен афиши. Администратор взмок… Лысой кукушкой он ускользает в захлопнувшееся окошечко. Милиция просит очистить вестибюль.
Зудят стекла, всхлипывают пружины дверей. Гам… Маяковский сам не может попасть на свой вечер. Он оказывается заложником у осаждающих. С него требуют выкупа: пятьдесят контрамарок… ну, двадцать – тогда пропустят. Но он уже роздал вчера, сегодня, сейчас десятки контрамарок, пропусков. Больше нет. Он оскудел.
И Маяковский продирается к входу. Он начинает таранить, ворочаться, раздвигать, как затертый мощный ледокол. Потом он вдруг сразу и легко проходит через всю толщу толпы.
Зал переполнен. Сидят в проходах, на ступеньках, на краю эстрады, на коленях друг у друга. Только в первых рядах еще видны пустые места, оставленные для лиц, особо уважаемых администрацией и пренебрежительно опаздывающих.
Маленькая закулисная комнатка загромождена Маяковским. Она раздавлена его расхаживанием. Комнатка тесна Маяковскому. Владимир Владимирович сторонит широкие плечи. В углу рта папироса. Она закушена, как удила.
По лестнице поднимается шум осады:
– Ма…
я…
ков…
ский!..
Про…
пусти…
те!!
Владимир Владимирович, почти сконфуженный, говорит мне:
– Пожалуйста, Кассильчик, спуститесь к администратору – мне уже совестно. А там пришли комсомольцы, кружковцы. Пусть пропустят пять человек, скажите: последние… Ну ладно, заодно уж восемь… словом, десять. И бейте себя в грудь, рвите волосы, выньте сердце, клянитесь, что последние. Он поверит. Девять раз уже верил…
Тем временем строптивый зал уже топочет от нетерпения.
И вот выходит Маяковский. Его появление на эстраде валит в котловину зала веселую и приветливую груду хлопков. Друзья и соратники сопровождают поэта.
В одной руке Маяковского портфель, в другой – стакан чаю.
Он сотрясает своими шагами пол эстрады. Он двигает стол. Грохочут стулья. Рядком раскладываются книжки, стихи, бумажки, часы. Громко звенит ложечка в стакане. Маяковский медленно, методично мешает ложечкой чай. Вот он обжился. Он осмотрен и осмотрелся. С мрачной иронией оглядывает он первые ряды и поднимает голову. Теперь он смотрит наверх, на балкон. Крепко закушенный, втиснутый в самый угол рта окурок вдруг сдвигается в широкой улыбке.
– Галерка! – произносит Маяковский грохочущим басом.– Студенты, сюда!
И жестом, убедительнейшим по своему размаху и простоте, он приглашает веселое население галерки занять неприкосновенные пустоты в партере. Студенты валят вниз. Растерянные капельдинеры сметены.
– Горные жители спускаются в долину, – вполголоса говорит Маяковский.
Пять минут шума, топота, веселых пререканий, толкотни, и вот от самых ног Маяковского, от края эстрады, на ступеньках, в проходах, на лестницах, вплоть до задней стены аудитории, – все заполняется горячеголовой, яснолицей молодежью. И огромные глаза Маяковского, поражающие обычным своим глубоким, мрачным и гордым блеском, теплеют. Распахнув полы пиджака, он засовывает ладони под пояс. Поза почти спортивная.
– Сегодня, – начинает он, – я буду…
Сообщается программа вечера.
– После доклада – перерыв: для моего отдыха и для изъявления восторгов публики.
– А когда же стихи будут? – жеманно спрашивает какая-то девица.
– А вам хочется, чтобы скорее интэрэсное началось? – так же жеманно басит Маяковский.
Первый раскат заглушённого хохота. В зале копится пока еще скрытое восхищение и негодование. И вот Маяковский начинает свой доклад.
Собственно, это не доклад, это блестящая беседа, убедительный рассказ, зажигательная речь, бурный монолог. Интереснейшие сообщения, факты, неистовые требования, возмущение, курьезы, афоризмы, смелые утверждения, пародии, эпиграммы, острые мысли и шутки, разительные примеры, пылкие выпады, отточенные формулы. Память его необъятна. Без труда цитирует он десятки строк других поэтов. Недаром говорят друзья: у Володи память как дорога в Полтаве – каждый галошу оставит. На шевелюру и плеши рыцарей мещанского искусства рушатся убийственно меткие определения и хлесткие шутки.
Маяковский разговаривает. Головастый, широкоротый, он минутами делается похожим на упрямо вгрызающийся экскаватор.
Вот он ухватил какую-то строку из пошлой статьи критика, пронес ее над головами слушателей и выбросил из широко раскрытого рта, свалив в кучу смеха, выкриков и аплодисментов. Стенографистки то и дело записывают в отчете: «смех», «аплодисменты», «общий смех», «бурные аплодисменты».
На стол слетаются записки из всех углов зала. Обиженные шумят. На них шикают. Обиженные оскорбляются. «Шум в зале», – констатирует стенограмма.
– Не резвитесь, – говорит Маяковский. Он не напрягает голоса, но грохот его баса легко перекрывает шум всего зала.
– Не резвитесь… Раз я начал говорить, значит, докончу. Не родился еще ни в дворянской семье, ни в купеческой такой богатырь, который бы меня переорал. Вы там, в третьем ряду, не размахивайте так грозно золотым зубом. Сядьте! А вы положите сейчас же свою газету или уходите вон из зала: здесь не читальный зал, здесь слушают меня, а не читают. Что?.. Неинтересно вам? Вот вам трешка за билет. Идите, я вас не задерживаю… А вы там тоже захлопнитесь. Что вы так растворились настежь? Вы не человек, вы шкаф.
Он ходит по эстраде, как капитан на своем мостике, уверенно направляя разговор по выбранному им курсу. Он легко, без натуги, распоряжается залом.
Становится жарко. Он снимает пиджак, аккуратно складывает его. Кладет на стол. Подтягивает брюки.
– Я здесь работаю. Мне жарко. Имею право улучшить условия работы? Безусловно!
Некая шокированная дама почти истерически кричит:
– Маяковский, что вы все подтягиваете штаны? Смотреть противно!..
– А если они у меня свалятся?..– вежливо интересуется Маяковский.
Молниеносные ответы разят пытающихся зацепить поэта.
– Что?.. Ну, вы, товарищ, возражаете, как будто воз рожаете… А вы, я вижу, ровно ничего не поняли. Собрание постановило считать вас отсутствующим.
– До моего понимания ваши шутки не доходят, – ерепенится непонимающий.
– Вы – жирафа! – восклицает Маяковский.– Только жирафа может промочить ноги в понедельник, а насморк почувствовать лишь к субботе.
Противники никнут. Стенографистки ставят закорючки, обозначающие хохот всего зала, аплодисменты.
Но вдруг вскакивает бойкий молодой человек без особых примет.
– Маяковский! – вызывающе кричит молодой человек.– Вы что полагаете, что мы все идиоты?
– Ну что вы! – кротко удивляется Маяковский.– Почему все? Пока я вижу перед собой только одного…
Некто в черепаховых очках и немеркнущем галстуке взбирается на эстраду и принимается горячо, безапелляционно доказывать, что «Маяковский уже труп и ждать от него в поэзии нечего».
Зал возмущен. Оратор, не смущаясь, продолжает умерщвлять Маяковского.
– Вот странно, – задумчиво говорит вдруг Маяковский, – труп я, а смердит он.
И оратор кончился… Когда хохот стихает, в одном из углов зала опять начинают что-то бубнить недовольные.
– Если вы будете шуметь, – урезонивает их Маяковский, – вам же хуже будет: я выпущу опять на вас предыдущего оратора.
Маленький толстый человек, проталкиваясь, карабкается на эстраду.
Он клеймит Маяковского за гигантоманию.
– Я должен напомнить товарищу Маяковскому, – горячится коротышка, – истину, которая была еще известна Наполеону: от великого до смешного – один шаг…
Маяковский вдруг, смерив расстояние, отделяющее его от говоруна, соглашается:
– От великого до смешного – один шаг, – и показывает на себя и на коротенького оратора.
А зал надрывается от хохота.
Начинается, как всегда, разговор о классиках, критическом изучении их. Маяковский, уважительно отзываясь о Пушкине, Лермонтове, Толстом, говорит, что новому времени нужны новые литературные приемы, новый поэтический словарь. Тут же он еще раз говорит о том, что Пушкин был величайшим поэтом.
– Вот Анатолий Васильевич Луначарский упрекает меня в неуважении к предкам. А я месяц назад во время работы, когда Брик начал читать мне «Евгения Онегина», которого я знаю наизусть, не мог оторваться и слушал до конца и два дня ходил под обаянием четверостишия:
Я знаю: жребий мой измерен,
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я.
Проникновенно и почти благоговейно звучит его низкий голос, плывущий пушкинской строфой.
– Конечно, – продолжает он, – мы будем сотни раз возвращаться к таким художественным произведениям, и даже в тот момент, когда смерть будет нам накладывать петлю на шею, тысячи раз!.. Учиться этим максимально добросовестным приемам, которые дают бесконечное удовлетворение и верную формулировку взятой, диктуемой, чувствуемой мысли.
Какой-то крикливый оппонент, все время пытавшийся сострить, шумевший с места и требовавший слова, неожиданно получает таковое. Но он, оказывается, «раздумал, да и вообще не собирался».
Маяковский торжественно возглашает:
– По случаю сырой погоды фейерверк отменяется… Маленькая, хрупкая на вид поэтесса подымается на эстраду и начинает спорить с Маяковским по поводу одного раскритикованного им стиха.
Маяковский очень тихо, почти беззвучно шевеля губами, отвечает ей.
– Громче! Не слышно, громче! – кричат из зала.
– Боюсь, – говорит Маяковский, прикрывая рот и глазами показывая на поэтессу, – боюсь: сдую…
Потом Владимир Владимирович читает свои стихи. И сторонники и противники стынут во внимательной, напряженной тишине. Зал сверху донизу дышит восторженной покорностью. С мастерством и могучей простотой читает Маяковский. Его неохватный голос звучен, бодр, искренен. Все уголки Политехнического плотно заполнены им. Замерли много слышавшие на своем веку капельдинеры. Дежурный милиционер и пожарный приоткрыли рты. Слово такое большое и объемное, что, кажется, вот-вот раздерет углы распяленного рта, слово несокрушимой крепости, слово упругое, вздымающее, весомое, грубое, зримое, слово радостное и яростное, шершавое и острое колышет остановившийся воздух зала:
И жизнь хороша,
и жить хорошо!
Гремит взволнованный зал.
Вот уже спал первый жар восторга, но снова хлопает, ревет, топочет аудитория.
Еще читает Маяковский. Опять онемел зал. Но тут из второго ряда шумно и грузно подымается тучный и очень бородатый дядя. Он топает через зал к выходу. Широкая и пышная борода лежит на громадном его животе, как на подносе.
Он невозмутимо выбирается из зашикавших рядов.
– Это еще что за выходящая из ряда вон личность? – грозно вопрошает Маяковский.
Но тот бесцеремонно и в то же время церемониально несет свою бороду к двери. И вдруг Маяковский, с абсолютно серьезной уверенностью и как бы извиняя, говорит:
– Побриться пошел…
Зал лопается от хохота. Борода обескуражеино и негодующе исчезает за дверью, словно вынесенная взрывной волной смеха. Теперь, положив карандаш, аплодируют даже стенографистки. Пожарный сияет ярче своей каски. Капельдинеры учтиво прикрывают ладонью рты, расползающиеся в улыбке.
Затем Маяковский отвечает на записки. Он запускает руки в большую груду бумажек и делает вид, что роется в них.
– Читайте все подряд, что вы там ищете? – уже кричат из зала.
– Что ищу? Ищу в этой куче жемчужные зерна…
С беспощадной неиссякаемой находчивостью отвечает Маяковский на колкие записки противников, на вопросы любопытствующих обывателей и писульки литературных барышень.
«Маяковский, сколько денег вы получите за сегодняшний вечер?»
– А вам какое дело? Вам-то ведь все равно ни копейки не перепадет… Ни с кем делиться я не собираюсь… Ну-с, дальше…
«Как ваша настоящая фамилия?»
Маяковский с таинственным видом наклоняется к залу.
– Сказать?.. Пушкин!!!
«Может ли в Мексике, скажем, появиться второй Маяковский?»
– Гм! Почему же нет? Вот поеду еще разок туда, женюсь там, может… Вот и, вполне вероятно, может появиться там второй Маяковский.
«Ваши стихи слишком злободневны. Они завтра умрут. Вас самого забудут. Бессмертие – не ваш удел…»
– А вы зайдите через тысячу лет, там поговорим!
«Ваше последнее стихотворение слишком длинно…»
– А вы сократите. На одних обрезках можете себе имя составить.
«Ваши стихи мне непонятны».
– Ничего, ваши дети их поймут!
– Нет, – кричит автор записки из зала, – и дети мои не поймут!
– А почему вы так убеждены, что дети ваши пойдут в вас? Может быть, у них мама умнее, а они будут похожи на нее.
«Маяковский, почему вы так себя хвалите?»
– Мой соученик по гимназии Шекспир всегда советовал: говори о себе только хорошее, плохое о тебе скажут твои друзья.
– Вы это уже говорили в Харькове! – кричит кто-то из партера.
– Вот видите, – спокойно говорит Маяковский, – товарищ подтверждает.– Он на мгновение замолкает и смотрит иронически в зал.– А я и не знал, что вы всюду таскаетесь за мной.
Он продолжает ворошить записки. «Как вы относитесь к Безыменскому?»
– Очень хорошо, только вот он недавно плохое стихотворение написал. Там у него рифмуется «свисток – серп и молоток». Безыменский, ну-ка, прочитайте, не стесняйтесь.
В зале послушно поднимается Безыменский и читает злополучное стихотворение.
– Ну вот, пожалуйста! – говорит Маяковский.– Разве можно так писать? А если бы у вас там рифмовалась пушка, так вы бы написали: «серп и молотушка»?
«Маяковский, вы сказали, что должны время от времени смывать с себя налипшие традиции и навыки, а раз вам надо умываться, значит, вы грязный…»
– А вы не умываетесь и думаете поэтому, что вы чистый?
«Маяковский, попросите передних сбоку сесть, вас не видно».
– Ну проверните в передних дырочку и смотрите насквозь… Что такое? А, знакомый почерк. А я вас все ждал. Вот она, долгожданная: «Ваши стихи непонятны массам». Значит, вы опять здесь? Отлично! Идите-ка сюда. Я вам давно собираюсь надрать уши. Вы мне надоели.
Еще с места:
– Мы с товарищем читали ваши стихи и ничего не поняли.
– Надо иметь умных товарищей!
– Маяковский, ваши стихи не волнуют, не греют, не заражают.
– Мои стихи не море, не печка и не чума.
– Маяковский, зачем вы носите кольцо на пальце? Оно вам не к лицу.
– Вот потому, что не к лицу, и ношу на пальце, а не в носу.
– Маяковский, вы считаете себя пролетарским поэтом, коллективистом, а всюду пишете: я, я, я.
– А как вы думаете, Николай Второй был коллективист? А он всегда писал: мы, Николай Вторый… И нельзя везде во всем говорить «мы». А если вы, допустим, начнете объясняться в любви девушке, что же, вы так и скажете: «Мы вас любим?» Она же спросит: «А сколько вас?»
Но больше всего обиженных за Пушкина. В зале поднимается худой, очень строгий на вид человек в сюртуке, похожий на учителя старой гимназии. Он поправляет пенсне и принимается распекать Маяковского.
– Не-ет, сударь, извините… – сердится он.– Вы изволили в письменной форме утверждать нечто совершенно недопустимое об Александре Сергеевиче Пушкине. Изъяснитесь. Нуте-с?
Владимир Владимирович быстро вытягивается, руки по швам, и говорит школьной скороговоркой:
– П’остите, п’остите, я больше не буду!
– А все-таки Пушкин лучше вас! – кричит кто-то.
– А, – говорит Маяковский, – значит, вам интереснее слушать Пушкина? Отлично!.. А. С. Пушкин! «Евгений Онегин». Роман в стихах. Глава первая.
Мой дядя самых честпых правил,
Когда не в шутку занемог…
И он начинает читать наизусть «Евгения Онегина». Строфа за строфой. «Онегина» он знает наизусть чуть ли не всего… В зале хохочут, смеются, вскакивают. Он читает. Только тогда, когда зал уже изнемог, Маяковский останавливается:
– Взмолились?.. Ладно. Вернемся к Маяковскому… И, пользуясь затишьем, он опять серьезно и неутомимо сражается за боевую, за политическую поэзию наших дней.
– Я люблю Пушкина! Наверное, больше всех вас люблю его. «Может, я один действительно жалею», что его сегодня нет в живых! Когда у меня голос садится, когда устанешь до полного измордования, возьмешь на ночь «Полтаву» или «Медного всадника» – утром весь встаешь промытый, и глотка свежая… И хочется писать совсем по-новому. Понимаете? По-новому! А не переписывать, не повторять слова чужого дяди! Обновлять строку, слова выворачивать с корнем, подымать стих до уровня наших дней. А время у нас посерьезней, покрупней пушкинского. Вот за что я дерусь!
Кончился вечер. Политехнический вытек. Мы едем домой.
Владимир Владимирович устал. Он наполнен впечатлениями и записками. Записки торчат из всех его карманов.
– Все-таки устаешь, – говорит он.– Я сейчас как выдоенный, брюкам не на чем держаться. Но интересно. Люблю. Оч-ч-чень люблю все-таки разговаривать. А публика который год, а все прет: уважают, значит, черти. Рабфаковец этот сверху… удивительно верно схватывает. Приятно. Хорошие ребята. А здорово я этого с бородой?..
Уже в который раз провожаю я его домой после таких вечеров, полных стихов, перепалок а оваций. И каждый раз хочется при этом повторять и мне радостно-восторженные строки, которые посвятил ему Семен Кирсанов:
Я счастлив, как зверь, до ногтей, до волос,
Я радостью вскручен, как вьюгой,
Что мне с капитаном таким довелось
Шаландаться по морю юнгой.
Источник