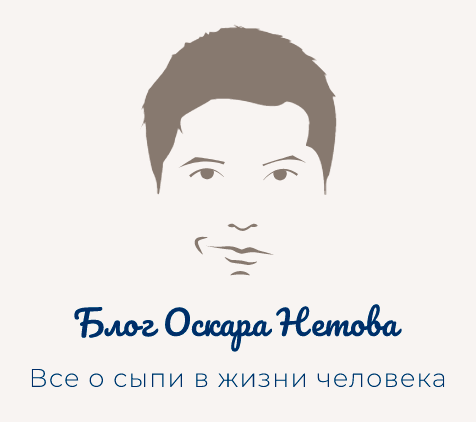В саду опять играла музыка и сыпал прохладной пылью раскидистый фонтан
Да-да, когда-то Городской парк города назывался именно так. Гуляли здесь купцы города, гимназисты, гувернантки с детишками. Ведь парк существует более 200 лет.
2. Территория от входа в парк до памятника Ивану Бунину принадлежала городу и сдавалась в аренду Добровольному Пожарному обществу. В праздничные дни вход был платным, доходы шли в пользу Пожарного общества. Каждое лето сюда приезжал цирк, по вечерам зажигали фонари, играл оркестр, устраивались различные концерты, гуляния, зимой заливали каток. В этом саду была летняя эстрада и именно здесь находился чугунный фонтан со статуей Амура. Амур, к сожалению, не сохранился, а старинный фонтан на месте.
3. В левой части Городского сада располагался Сад Общественного Собрания, или Дворянский. Больших деревьев здесь не было, поэтому сад был открыт солнечному свету. Сюда чаще приходили семьями, гуляли с детьми. В саду были эстрада, лавочки, столы, можно было послушать духовой оркестр, посмотреть немое кино, попить в буфете чаю, полюбоваться обилием цветов и кустарников. Были и зимние помещения, где дворяне устраивали балы. Доступ представителей других сословий в сад был ограничен.
4. В правой части сада располагался Ботанический сад — частный сад, который являлся частью усадьбы купца Александра Николаевича Заусайлова. В огромной стеклянной оранжерее росли экзотические фруктовые деревья, по аллеям разгуливали павлины, в водоёме, имеющем контур Чёрного моря, плавали белые лебеди. От той красоты остался только каменный грот с беседкой и небольшой водоём.
5. В саду любили гулять жившие здесь Михаил Пришвин и Иван Бунин. Вот он, задумчивый юный гимназист Ваня Бунин, так описывающий позже свой любимый Горсад в «Жизни Арсеньева»:
«В саду опять играла музыка, сыпал прохладной пылью высокий, раскидистый фонтан и с какой-то женственной роскошью пахло цветами в бодром и студёном воздухе багряного осеннего заката, но народу было мало, отчего мне ещё стыднее было ходить отдельно от прочих, на виду у всех, в этом избранном «кружке дворян-гимназистов» и поддерживать с ними какой-то особый дворянский разговор, – как вдруг меня словно ударило что-то: по аллее, навстречу нам, быстро шла мелкими шажками, с тросточкой в руках, маленькая женщина-девочка, очень ладно сложенная и очень изящно и просто одетая. Когда она быстро подошла к нам и, приветливо играя агатовыми глазами, свободно и крепко пожала нам руки своей маленькой ручкой в узкой чёрной перчатке, быстро заговорила и засмеялась, раза два мельком, но любопытно взглянув на меня, я впервые в жизни так живо и чувственно ощутил всё то особенное и ужасное, что есть в женских смеющихся губах, в детском звуке женского голоса, в округлости женских плечей, в тонкости женской талии, в том непередаваемом, что есть даже в женской щиколке, что не мог вымолвить ни слова.»
6. Естественно, что за это время появились и новые постройки. Колесо обозрения, откуда открывается чудесный панорамный вид на старую часть города.
7. Вообще, парк производит хорошее впечатление. Ухоженный, с вековыми деревьями и симпатичными клумбами.
8. Напротив Городского парка находится ещё один — Детский. Во второй половине XIX века купцами Калабиными на этом месте был построен детский приют для девочек-сирот с прилегающим к нему садом. Небольшой по размеру, сад пользовался популярностью у ельчан — здесь разворачивали шатры одного из самых крупных в провинциальной дореволюционной России цирков Труцци. Во время Великой Отечественной войны в зданиях вокруг парка размещалось Орловское суворовское училище. Территория парка использовалась под плац, где суворовцы тренировались чеканить шаг. В 1947 году здесь был устроен парк, который восстанавливали и благоустраивали пионеры и комсомольцы Ельца. Сейчас, насколько я понимаю, идёт ремонт и реконструкция. Получается очень симпатичненько.
Мультяшные герои просто созданы для фотосессий с ними. Я сфоткалась, кто угадает с кем? Какие будут варианты???
Источник
И мне уже казалось, что все это будет или, по крайней мере,
начнется нынче же вечером. Я сходил к парикмахеру, который постриг меня
«бобриком» и, надушив, взодрал этот бобрик сально и пряно вонявшей круглой
щеткой, я чуть не час мылся, наряжался и чистился дома и, когда шел в сад,
чувствовал, как у меня леденеют руки и огнем пылают уши. В саду опять играла
музыка, сыпал прохладной пылью высокий, раскидистый фонтан и с какой-то
женственной роскошью пахло цветами в бодром и студеном воздухе багряного
осеннего заката, но народу было мало, отчего мне еще стыднее было ходить отдельно
от прочих, на виду у всех, в этом избранном «кружке дворян-гимназистов» и
поддерживать с ними какой-то особый дворянский разговор, — как вдруг меня
словно ударило что-то: по аллее, навстречу нам, быстро шла мелкими шажками, с
тросточкой в руках, маленькая женщина-девочка, очень ладно сложенная и очень
изящно и просто одетая. Когда она быстро подошла к нам и, приветливо играя
агатовыми глазами, свободно и крепко пожала нам руки своей маленькой ручкой в
узкой черной перчатке, быстро заговорила и засмеялась, раза два мельком, но
любопытно взглянув на меня, я впервые в жизни так живо и чувственно ощутил все
то особенное и ужасное, что есть в женских смеющихся губах, в детском звуке
женского голоса, в округлости женских плечей, в тонкости женской талии, в том
непередаваемом, что есть даже в женской щиколке, что не мог вымолвить ни
слова. — Образуйте его нам немножко. Наля, — сказал Лопухин,
спокойно и развязно кивая на меня и так бесстыдно-многозначительно на что-то
намекая, что у меня холодной мелкой дрожью задрожало внутри и чуть не стукнули
зубы …
К счастью, Наля через несколько дней уехала в губернский
город — неожиданно умер ее дядя, наш вице-губернатор. К счастью, и из кружка
ничего не вышло. К тому же вскоре случилось у нас в семье огромное событие:
арестовали брата Георгия.
XII
Событие это даже отца ошеломило.
Теперь ведь и представить себе невозможно, как относился
когда-то рядовой русский человек ко всякому, кто осмеливался «итти против
царя», образ которого, несмотря на непрестанную охоту за Александром Вторым и
даже убийство его, все еще оставался образом «земного Бога», вызывал в умах и
сердцах мистическое благоговение. Мистически произносилось и слово «социалист»
— в нем заключался великий позор и ужас, ибо в него вкладывали понятие
всяческого злодейства. Когда пронеслась весть, что «социалисты» появились даже
и в наших местах, — братья Рогачевы, барышни Субботины, — это так
поразило наш дом, как если бы в уезде появилась чума или библейская проказа.
Потом произошло нечто еще более ужасное: оказалось, что и сын Алферова, нашего
ближайшего соседа, вдруг пропал из Петербурга, где он был в военно-медицинской
академии, потом объявился под Ельцом на водяных мельницах, простым грузчиком, в
лаптях, в посконной рубахе, весь заросший бородой, был узнан, уличен в
«пропаганде», — это слово звучало тоже очень страшно, — и заключен в
Петропавловскую крепость. Отец наш был человек вовсе не темный, не косный и уж
далеко не робкий во всех отношениях; много раз слыхал я в детстве, с какой
дерзостью называл он иногда Николая Первого Николаем Палкиным, бурбоном; однако
слышал я и то, с какой торжественностью и столь же искренно произносил он на
другой день совсем другие слова: «В Бозе почивающий Государь Император Николай
Павлович…» У отца все зависело от его барского настроения, а что все таки
преобладало? И потому даже и он только руками растерянно разводил, когда
«схватили» этого юного и бородатого грузчика. — Несчастный Федор
Михайлыч! — с ужасом говорил он про его отца. — Вероятно, этого
голубчика казнят. Даже непременно казнят, — говорил он со своей постоянной
страстью к сильным положениям. — Да и поделом, поделом! Очень жалко
старика, но церемониться с ними нечего. Этак мы и до французской революции
достукаемся! И как я был прав, когда твердил, что, попомните мое слово, будет
этот крутолобый, угрюмый болван острожником, позором всей своей семьи!
И вот, такой же позор, ужас вдруг свалился и на нашу семью.
Как, почему? Ведь уж брата-то никак нельзя было назвать крутолобым, угрюмым
болваном. Его «преступная деятельность» казалась еще нелепее, еще невероятнее,
чем таковая же барышень Субботиных, которые, хотя и принадлежали к богатому и
хорошему дворянскому роду, все-таки просто могли быть сбиты с толку, по своей
девичьей глупости, какими-нибудь Рогачевыми.
В чем заключалась «деятельность» брата и как именно проводил
он свои университетские годы, я точно не знаю. Знаю только то, что деятельность
эта началась еще в гимназии под руководством какой-то «замечательной личности»,
какого-то семинариста Доброхотова. Но что общего было у брата с Доброхотовым?
Брат, рассказывая мне о нем впоследствии, все еще восхищался им, говорил о его
«ригоризме», о его железной воле, о «беспощадной ненависти к самодержавию и
беззаветной любви к народу»; но была ли хоть одна из этих черт у брата, почему
он восхищался?
Очевидно, только в силу той вечной легкомысленности,
восторженности, что так присуща была дворянскому племени и не покидала
Радищевых, Чацких, Рудиных, Огаревых, Герценов даже и до седых волос; потому,
что черты Доброхотова считались высокими, героическими; и наконец по той
простой причине, что, вспоминая Доброхотова, он вспоминал весь тот счастливый
праздник, в котором протекала его юность, — праздник ощущения этой юности,
праздник «преступной», а потому сладостно-жуткой причастности ко всяким тайным
кружкам, праздник сборищ, песен, «зажигательных» речей, опасных планов и
предприятий …
Ах, эта вечная русская потребность праздника! Как чувственны
мы, как жаждем упоения жизнью, — не просто наслаждения, а именно
упоения, — как тянет нас к непрестанному хмелю, к запою, как скучны нам
будни и планомерный труд! Россия в мои годы жила жизнью необыкновенно широкой и
деятельной, число людей работающих, здоровых, крепких в ней все возрастало.
Однако разве не исконная мечта о молочных реках, о воле без удержу, о празднике
была одной из главнейших причин русской революционности? И что такое вообще
русский протестант, бунтовщик, революционер, всегда до нелепости отрешенный от
действительности и ее презирающий, ни в малейшей мере не хотящий подчиниться
рассудку, расчету, деятельности невидной, неспешной, серой? Как! Служить в
канцелярии губернатора, вносить в общественное дело какую-то жалкую лепту! Да
ни за что, — «карету мне, карету!»
Брату и в гимназии и в университете пророчили блестящую
научную будущность. Но до науки ли было ему тогда! Он, видите ли, должен был
«всецело отказаться от личной жизни, всего себя посвятить страждущему народу».
Он был добрый, благородный, живой, сердечный юноша и все таки тут он просто
врал себе или, вернее, старался жить — да и жил — выдуманными чувствами, как
жили тысячи прочих. Чем вообще созданы были «хождения в народ» дворянских
детей, их восстание на самих себя, их сборища, споры, подполья, кровавые слова
и действия? В сущности дети были плоть от плоти, кость от кости своих отцов,
тоже всячески прожигавших свою жизнь. Идеи идеями, но ведь сколько, повторяю,
было у этих юных революционеров и просто жажды веселого безделья под видом
кипучей деятельности, опьяненья себя сходками, шумом, песнями, всяческими
подпольными опасностями, — да еще «рука об руку» с хорошенькими
Субботиными, — мечтами об обысках и тюрьмах, о громких процессах и
товарищеских путешествиях в Сибирь, на каторгу, за полярный круг!
Источник
XI
В третьем классе я сказал однажды директору дерзость, за которую меня едва не исключили из гимназии. На уроке греческого языка, пока учитель что-то объяснял нам, писал на доске, крепко, ловко и с большим от этой ловкости удовольствием стуча мелом, я, вместо того, чтобы слушать его, в сотый раз перечитывал одну из моих любимейших страниц в Одиссее — о том, как Навзикая поехала со своими служанками на морской берег мыть пряжу. Внезапно в класс вошел директор, имевший привычку ходить по коридорам и заглядывать в дверные стекла, направился прямо ко мне, вырвал у меня из рук книгу и бешено крикнул: — Пошел до конца урока в угол!
Я поднялся и, бледнея, ответил: — Не кричите на меня и не говорите мне ты. Я вам не мальчик…
В самом деле, мальчиком я уже не был. Я быстро рос душевно и телесно. Я жил теперь уже не одними чувствами, приобрел некоторое господство над ними, стал разбираться в том, что я вижу и воспринимаю, стал смотреть на окружающее и на переживаемое мной до известной степени сверху вниз. Нечто подобное я испытал при переходе из детства в отрочество. Теперь испытывал с удвоенной силой. И, бродя в праздничные дни с Глебочкой по городу, замечал, что рост мой почти равен росту среднего прохожего, что только моя отроческая худоба, стройность да тонкость и свежесть безусого лица отличают меня от этих прохожих.
В начале сентября того года, когда я перешел в четвертый класс, неожиданно захотел вступить со мной в приятельство один из моих товарищей, некто Вадим Лопухин. Как-то на большой перемене он подошел ко мне, взял меня за руку выше локтя и сказал, прямо и пусто глядя в глаза мне: — Послушай, хочешь войти в наш кружок? Мы образовали кружок гимназистов-дворян, чтобы не мешаться больше со всякими Архиповыми и Заусайловыми. Понимаешь?
Он был во всех отношениях гораздо старше меня, потому что в каждом классе непременно сидел два года, был уже юношески высок и широк в кости, белокур, светоглаз, с пробивающимися золотистыми усиками. Чувствовалось, что он уже все знает, все испытал, чувствовалась его порочность и то, что он весьма доволен ею, как признаком хорошего тона и своей взрослости: на переменах он рассеянно и быстро прогуливался в толпе своим барски-легким, несколько пружинным и шаркающим шагом, небрежно и развязно подавшись вперед, засунув руки в карманы широких и легких панталон, все посвистывая, все поглядывая вокруг с холодным и несколько насмешливым любопытством, подходил, что бы поболтать, только к «своим», при встрече с надзирателем кивал ему как знакомому…
Я в ту пору уже начал приглядываться к людям, наблюдать за ними, мои расположения и нерасположения стали определяться и делить людей на известные сорта, из коих некоторые навсегда становились мне ненавистны. Лопухин определенно принадлежал к ненавистным. И все таки я был польщен, ответил полным согласием на счет кружка, и тогда он предложил мне прийти нынче же вечером в городской сад: — Ты, во-первых, должен поближе сойтись кое с кем из наших, — сказал он, — а во-вторых, я познакомлю тебя с Налей Р. Она еще гимназистка, дочка очень чванных родителей, но уж прошла огонь и воду и медные трубы, умна, как бес, весела, как француженка, и может выпить бутылку шампанского без всякой посторонней помощи. А сама аршин ростом, и ножка — как у феи… Понимаешь? — сказал он, как всегда, глядя мне в глаза и думая или делая вид, что думает о чем-то другом.
И вот, тотчас же после этого разговора, случилось со мной нечто совершенно необыкновенное: впервые в жизни я вдруг почувствовал не только влюбленность к той Нале, которую я вообразил себе со слов Лопухина, — влюбленность уже совсем не похожую на то мимолетное, легкое, таинственное и прекрасное, что коснулось меня когда-то при взгляде на Сашку, а потом при встрече молодого Ростовцева с барышней на гуляньи в царский день, — но уже и нечто мужское, телесное. Как трепетно ждал я вечера! Вот оно, мерещилось мне, — наконец-то! Что наконец-то, что именно? Какая то роковая и как будто уже давно вожделенная грань, через которую наконец и я должен переступить, жуткий порог какого-то греховного рая…
И мне уже казалось, что все это будет или, по крайней мере, начнется нынче же вечером. Я сходил к парикмахеру, который постриг меня «бобриком» и, надушив, взодрал этот бобрик сально и пряно вонявшей круглой щеткой, я чуть не час мылся, наряжался и чистился дома и, когда шел в сад, чувствовал, как у меня леденеют руки и огнем пылают уши. В саду опять играла музыка, сыпал прохладной пылью высокий, раскидистый фонтан и с какой-то женственной роскошью пахло цветами в бодром и студеном воздухе багряного осеннего заката, но народу было мало, отчего мне еще стыднее было ходить отдельно от прочих, на виду у всех, в этом избранном «кружке дворян-гимназистов» и поддерживать с ними какой-то особый дворянский разговор, — как вдруг меня словно ударило что-то: по аллее, навстречу нам, быстро шла мелкими шажками, с тросточкой в руках, маленькая женщина-девочка, очень ладно сложенная и очень изящно и просто одетая. Когда она быстро подошла к нам и, приветливо играя агатовыми глазами, свободно и крепко пожала нам руки своей маленькой ручкой в узкой черной перчатке, быстро заговорила и засмеялась, раза два мельком, но любопытно взглянув на меня, я впервые в жизни так живо и чувственно ощутил все то особенное и ужасное, что есть в женских смеющихся губах, в детском звуке женского голоса, в округлости женских плечей, в тонкости женской талии, в том непередаваемом, что есть даже в женской щиколке, что не мог вымолвить ни слова. — Образуйте его нам немножко. Наля, — сказал Лопухин, спокойно и развязно кивая на меня и так бесстыдно-многозначительно на что-то намекая, что у меня холодной мелкой дрожью задрожало внутри и чуть не стукнули зубы…
К счастью, Наля через несколько дней уехала в губернский город — неожиданно умер ее дядя, наш вице-губернатор. К счастью, и из кружка ничего не вышло. К тому же вскоре случилось у нас в семье огромное событие: арестовали брата Георгия.
XII
Событие это даже отца ошеломило.
Теперь ведь и представить себе невозможно, как относился когда-то рядовой русский человек ко всякому, кто осмеливался «итти против царя», образ которого, несмотря на непрестанную охоту за Александром Вторым и даже убийство его, все еще оставался образом «земного Бога», вызывал в умах и сердцах мистическое благоговение. Мистически произносилось и слово «социалист» — в нем заключался великий позор и ужас, ибо в него вкладывали понятие всяческого злодейства. Когда пронеслась весть, что «социалисты» появились даже и в наших местах, — братья Рогачевы, барышни Субботины, — это так поразило наш дом, как если бы в уезде появилась чума или библейская проказа. Потом произошло нечто еще более ужасное: оказалось, что и сын Алферова, нашего ближайшего соседа, вдруг пропал из Петербурга, где он был в военно-медицинской академии, потом объявился под Ельцом на водяных мельницах, простым грузчиком, в лаптях, в посконной рубахе, весь заросший бородой, был узнан, уличен в «пропаганде», — это слово звучало тоже очень страшно, — и заключен в Петропавловскую крепость. Отец наш был человек вовсе не темный, не косный и уж далеко не робкий во всех отношениях; много раз слыхал я в детстве, с какой дерзостью называл он иногда Николая Первого Николаем Палкиным, бурбоном; однако слышал я и то, с какой торжественностью и столь же искренно произносил он на другой день совсем другие слова: «В Бозе почивающий Государь Император Николай Павлович…» У отца все зависело от его барского настроения, а что все таки преобладало? И потому даже и он только руками растерянно разводил, когда «схватили» этого юного и бородатого грузчика. — Несчастный Федор Михайлыч! — с ужасом говорил он про его отца. — Вероятно, этого голубчика казнят. Даже непременно казнят, — говорил он со своей постоянной страстью к сильным положениям. — Да и поделом, поделом! Очень жалко старика, но церемониться с ними нечего. Этак мы и до французской революции достукаемся! И как я был прав, когда твердил, что, попомните мое слово, будет этот крутолобый, угрюмый болван острожником, позором всей своей семьи!
Источник